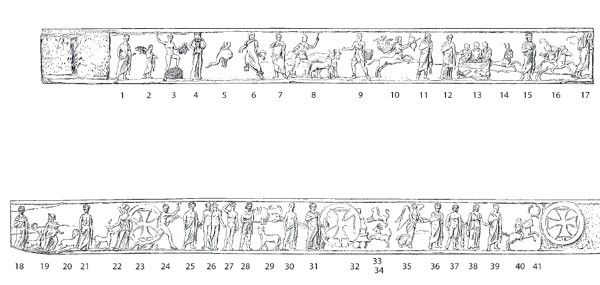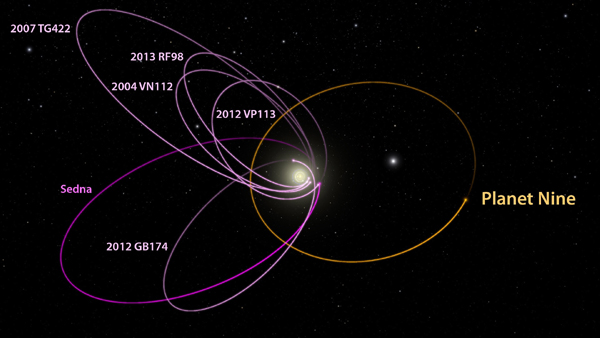2016-12-3 09:00 |
«Полит. ру» публикует стенограмму и видеозапись лекции филолога и искусствоведа Михаила Александровича Дзюбенко на тему «Душевный человек между Фаустом и старообрядцами: Взгляд на И. С. Тургенева в канун его 200-летия», прочитанной 9 ноября 2016 года в Библиотеке-читальне имени И.
С. Тургенева в рамках цикла "Публичные лекции "Полит. ру"".
Актуальность Тургенева
Тургенев считается писателем очевидно старомодным. Тут Егор Радов уже завершил творческий путь - и что нам какой-то Тургенев! Достаточно сказать, что теперь его время - даже не прошлый век, а позапрошлый. Но уже и сто лет назад Ю. И. Айхенвальд писал о том, что Тургенев неглубок, литературен, однообразен, во многом условен и социален (как сказали бы сейчас, горизонтально ориентирован).
На нем видно, как состарились мы и он.
В значительной мере это объясняется тем, что тогда, в прежние нетребовательные годы, мы не замечали его существенных недостатков и за нежной дымкой его очарований, за романтической группой его героинь, за всей этой прекрасной женственностью не слышали отзвука литературы. Теперь же она предстает перед нами, и явно для нас, как много Тургенев сочиняет, выдумывает и как в нем истинного творца побеждает беллетрист. Он пишет свои новеллы так, как если бы жизнь сама была новеллой. Он всегда заканчивает, между тем как жизнь и конец - понятия несовместимые.
То ли дело Достоевский с Толстым! Пишут-пишут и никак не заканчивают.
Когда же он не знает, как и чем закончить, он, в своих художественных силах всегда ограниченный, разрубает гордиев узел и заставляет своего героя на самом интересном месте его жизни умереть. Так он сделал с Базаровым, с Инсаровым.
То есть если не заканчивает - это плохо, но если заканчивает - тоже плохо.
Тургенев не глубок. И во многих отношениях его творчество - общее место.
Но, простите, общим местом оно стало именно благодаря самому Тургеневу.
Есть сюжеты и темы, которых нельзя и которые грешно подвергать акварельной обработке. А он между тем говорит обо всем, у него и смерть, и ужас, и безумие, но все это сделано поверхностно и в тонах слишком легких… Он знает, какие есть возможности и глубины в человеке, знает все страсти и даже мистерии, и почти все их назвал, перечислил, мимолетно и грациозно коснулся их и пошел дальше…
Вот об этом мы сегодня и поговорим.
Богатый, содержательный, разнообразный, он не имеет, однако, пафоса и подлинной серьезности. Его мягкость - его слабость.
У него - рассказ для рассказа. Он не хочет волноваться сам и озабочен, чтобы не беспокоились и его читатели. Их он видит, с ними считается, ни на минуту не забывает про их существование.
Видимо, о читателе надо забыть.
Тургенев изыскан и даже сновидения посылает своим героям все очень красивые и поэтические.
Ю. И. Айхенвальд, похоже, запамятовал про сон пушкинской Татьяны.
Тургенев слишком печется о цивилизации; он исповедует, что без нее нет поэзии и даже самое «чувство красоты и поэзии развивается и входит в силу под влиянием той же цивилизации».
По наивному же мнению Айхенвальда, опровергнутому гуманитарной наукой в ХХ веке, красота в культуре не нуждается.
Неуместна и оскорбительна его шутливость… Юмор вообще лежит за пределами его дарования, хотя сам Тургенев этого ни за что не признает и все тянется в сторону гоголевскую.
Взгляд поверхностный. О тургеневском юморе мы тоже сегодня поговорим. Теперь коронная тема:
Тургеневская любовь не имеет мировой и стихийной мощи, не слышится в ней первозданная сила природы… У Тургенева все влюблены как-то тенденциозно.
А надо, видимо, любить без тенденции, желательно беспристрастно.
У него любовь литературна и, так сказать, с цитатами… В словесности почерпает она свой источник и вдохновение, и редко любовники обходятся без посредничества книги.
И об этом будет сегодня разговор, причем не беглый.
Начала общественные Ю. И. Айхенвальд считает И. С. Тургеневу в сущности чуждыми и т. д. и т. п.
Видно, что критик ходит вокруг писателя, скалит зубы и пытается цапнуть его то за одно, то за другое место. Но не дается ему Тургенев, не по зубам…
А между тем И. С. Тургенев, такой неактуальный и старомодный уже сто лет назад, и теперь продолжает порождать актуальные образы.
Наберем в Яндексе слово «нигилист». Статистика дает 2 миллиона результатов, 25 тыс. показов в месяц, причем далеко не только связанных с отсылками к образам «Отцов и детей». «Тургеневская девушка» - 1 млн. результатов, почти 3 тыс. показов в месяц. Нет такого понятия «тургеневский юноша» (хотя должно бы быть), но «лишний человек» - целых 57 млн. результатов и 27 тыс. показов в месяц.
В Москве есть такой географический курьез, как улица Вешних Вод (в Северо-восточном административном округе, до 1964 года - Тургеневская улица в городе Бабушкин, вошедшем в состав Москвы). Ладно, есть улица Павла Корчагина - герой хоть и вымышленный, но антропоморфный. А что такое Вешние Воды?
Тургенева продолжают экранизировать модные режиссеры. Лет двадцать назад вышел фильм Юрия Грымова «Муму», а меньше десятилетия назад «Отцов и детей» экранизировала Авдотья Смирнова. Или вот недавно вышел фильм Владимира Мирзоева «Ее звали Муму». В основе сценария - история авантюристки, прогремевшая лет пять-шесть назад. Понятно, что прозвище героини отсылает не напрямую к классической повести, но тем не менее является производным от собачьей клички. Да и весь рассказ «Муму» продолжает оставаться источником анекдотов, иногда весьма актуальных.
Тургенев до сих пор актуален во многом - и даже тогда, когда уже при жизни не стремился быть таковым. Вот во вступлении к «Литературным и житейским воспоминаниям» он пишет о конце 1830-х годов, когда вынужден был уехать учиться за границу:
Могу сказать о себе, что лично я весьма ясно сознавал все невыгоды подобного отторжения от родной почвы, подобного насильственного перерыва всех связей и нитей, прикреплявших меня к тому быту, среди которого я вырос. . . но делать было нечего. Тот быт, та среда и особенно та полоса ее, если можно так выразиться, к которой я принадлежал - полоса помещичья, крепостная, - не представляли ничего такого, что могло бы удержать меня. Напротив: почти все, что я видел вокруг себя, возбуждало во мне чувства смущения, негодования - отвращения, наконец. Долго колебаться я не мог. Надо было либо покориться и смиренно побрести общей колеей, по избитой дороге; либо отвернуться разом, оттолкнуть от себя «всех и вся», даже рискуя потерять многое, что было дорого и близко моему сердцу. Я так и сделал. . . Я бросился вниз головою в «немецкое море», долженствовавшее очистить и возродить меня, и когда я наконец вынырнул из его волн - я все-таки очутился «западником», и остался им навсегда.
Отвечая же тем, кто упрекал и упрекает Тургенева в забвении России, писатель продолжает, и его слова звучат как нельзя более современно:
И я не думаю, чтобы мое западничество лишило меня всякого сочувствия к русской жизни, всякого понимания ее особенностей и нужд… Скажу также, что я никогда не признавал той неприступной черты, которую иные заботливые и даже рьяные, но малосведущие патриоты непременно хотят провести между Россией и Западной Европой, той Европой, с которою порода, язык, вера так тесно ее связывают. Не составляет ли наша, славянская раса - в глазах филолога, этнографа - одной из главных ветвей индо-германского племени? И если нельзя отрицать воздействия Греции на Рим и обоих их вместе - на германо-романский мир, то на каком же основании не допускается воздействие этого - что ни говори - родственного, однородного мира на нас? Неужели же мы так мало самобытны, так слабы, что должны бояться всякого постороннего влияния и с детским ужасом отмахиваться от него, как бы он нас не испортил? Я этого не полагаю: я полагаю, напротив, что нас хоть в семи водах мой, - нашей, русской сути из нас не вывести. Да и что бы мы были, в противном случае, за плохонький народец! Я сужу по собственному опыту: преданность моя началам, выработанным западною жизнию, не помешала мне живо чувствовать и ревниво оберегать чистоту русской речи.
В те самые годы, когда Тургенев учился, а затем начинал литературную деятельность (а это середина царствования Николая I), в русской литературе господствовала во многом насаждавшаяся сверху, как ее тогда называли, ложновеличавая школа (которую сам писатель связывает с именами Бенедиктова, Кукольника, Загоскина, Брюллова, Каратыгина и др. ). Перечитываешь слова Тургенева о ней - и кажется, будто написано сегодня:
Как широко разлилась тогда эта школа! Некоторые из ее деятелей сами добродушно признавали себя за гениев. Со всем тем что-то не истинное, что-то мертвенное чувствовалось в ней даже в минуты ее кажущегося торжества - и ни одного живого, самобытного ума она себе не покорила безвозвратно. Произведения этой школы, проникнутые самоуверенностью, доходившей до самохвальства, посвященные возвеличиванию России - во что бы то ни стало, в самой сущности не имели ничего русского: это были какие-то пространные декорации, хлопотливо и небрежно воздвигнутые патриотами, не знавшими своей родины. Все это гремело, кичилось, все это считало себя достойным украшением великого государства и великого народа, - а час падения приближался.
«Внутренний человек» по Е. Г. Эткинду и апостолу Павлу
Но нельзя сказать, что упреки Айхенвальда совсем несправедливы. Нет, просто он не может сформулировать то, что хочет сказать. Ему не хватает понятий - таких, например, как человек внешний (душевный) и внутренний (духовный).
Понятия эти относятся не к светской науке, а к духовной, но как важно их знать, чтобы не попасть впросак, как это произошло со знаменитым филологом Е. Г. Эткиндом. В 1999 году в издательстве «Языки русской культуры» вышла одна из последних его книг - «”Внутренний человек” и внешняя речь: Очерки психопоэтики русской литературы XVIII-XIX веков», в самом начале которой читаем:
Понятие «внутренний человек» возникло в конце XVIII века - впервые я столкнулся с ним в сочинениях предшественника немецких романтиков Жан-Поля (Рихтера). В 1797 году Жан-Поль написал удивительный трактат «Кампанская долина или о бессмертии души», где находим следующее рассуждение:
«До сих пор люди отмечали только звучание некоторых инструментов нашей плоти, которые сопровождают ощущение; например, разбухшее сердце или замедленная кровь при тоске, излияние желчи при гневе и т. п. Однако сплетение, анастомоз между внутренним и внешним человеком настолько тесны и интенсивны, что рождение каждого образа, каждой мысли должно сопровождаться дрожью какого-нибудь нерва, какой-нибудь ничтожно малой мышцы <…> Внутренний человек, этот бог, затаившийся в статуе, не каменный, как она, - в каменных членах статуи растут и созревают его живые органы на основании непонятных жизненных законов…»
Может быть, и до Жан-Поля кто-нибудь говорил о «внутреннем человеке»; термин, который вошел в заглавие настоящей книги, так или иначе родился именно в то время.
Маститый филолог сильно ошибался: термин «внутренний человек» родился не в эпоху романтизма, а восемнадцатью веками ранее. Он встречается уже в посланиях апостола Павла. Например, в Послании к Римлянам:
Итак, я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти! (Рим 7:21-24).
Или во 2 Послании к Коринфянам:
Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое; ибо видимое временно, а невидимое вечно. (2 Кор 4:16-18)
При этом значения термина «внутренний человек» у апостола Павла и у Е. Г. Эткинда совершенно различны и даже прямо противоположны. Апостол Павел говорит о человеке духовном, который вырастает, вызревает внутри человека земного для будущей жизни; Эткинд - о человеке скорее душевном, живущем жизнью не поверхностной, но все-таки земной, эмоциональной и потому обреченном тлению и смерти.
Так вот, я думаю, одной из претензий Айхенвальда к Тургеневу, которую он пытался выразить на доступном ему языке, и была такая обращенность преимущественно к душевному человеку. Но преимущественно не значит всецело.
Литературная программа Тургенева
Если мы откроем первый том Сочинений Тургенева, то, наряду с ранними стихотворениями и поэмами, увидим раздел «Статьи и рецензии», замечательный по своему содержанию. Среди них:
рецензия на книгу А. Н. Муравьева «Путешествие по святым местам Русским»;
статья под видом рецензии на перевод первой и изложение второй части трагедии Гете «Фауст», выполненный М. П. Вронченко;
рецензия на трагедию Н. В. Кукольника «Генерал-поручик Паткуль»;
рецензия на книгу «Повести, сказки и рассказы Казака Луганского» (В. И. Даля).
Сам состав этого раздела позволяет как увидеть истоки будущих знаменитых, хрестоматийных произведений, так и понять суть литературной программы Тургенева.
Во-первых, современные социальные типы предстают у него реализациями типов вечных. Именно так, например, построены «Записки охотника», именно в этом их отличие от прочих физиологических очерков и охотничьих рассказов. Это пересечение, скрещение социальной и архетипической образности составляет самую суть художественного (и - шире - философского) мировоззрения Тургенева.
Известный как один из наиболее отзывчивых и злободневных писателей, он в то же время постоянно стремился применить к современности типологию вечных образов. Среди них три привлекали его наибольшее внимание: Дон-Кихот, Гамлет и Фауст - три, отмеченные временем драматичного перехода от средневековья к Новому Времени в культурах Испании, Британии и Германии. Об этом внимании свидетельствуют, в частности, его знаменитая статья «Гамлет и Дон-Кихот», повести «Гамлет Щигровского уезда» и «Фауст», упомянутый разбор перевода «Фауста» И. В. Гете и др.
Во-вторых, многие герои Тургенева так или иначе совмещают в себе черты двух культур (но далеко не всегда западноевропейской и российской: скажем, прообразы героев рассказа «Муму» находятся в житии преп. Герасима Иорданского).
Русский Мефистофель и русский Фауст
Ключом к пониманию Тургеневым сюжета о Фаусте является, в первую очередь, тургеневская рецензия 1845 года на перевод первой и изложение второй части трагедии Гете, выполненные М. П. Вронченко годом раньше. В то же время следует помнить о том, что Тургенев, как и многие другие члены кружка Белинского, которому посвящен роман, долгое время находился под влиянием Гегеля, особенно во время учебы в Германии.
Таким образом, «Отцов и детей» необходимо прочитать сквозь тройную призму: «Фауста» Гете, лекций Гегеля и рецензии самого Тургенева на перевод Вронченко.
Действие произведений Гете и Тургенева происходит в переходную эпоху. Но назвать эпоху «Фауста» переходом от Средневековья к Новому времени было бы слишком общо. Тургенев видит в ней иное содержание - Гете, по его мнению, хотел сказать в трагедии о своем времени, уподобив его жизни человека:
Каждый человек в молодости своей пережил эпоху «гениальности», восторженной самонадеянности, дружеских сходок и кружков. Сбросив иго преданий, схоластики и вообще всякого авторитета, всего, что приходит к нему извне, он ждет спасения от самого себя; он верит в непосредственную силу своей натуры и преклоняется перед природой как перед идолом непосредственной красоты <…> Он становится центром окружающего мира; он (сам не сознавая своего добродушного эгоизма) не предается ничему; он все заставляет себе предаваться; он живет сердцем, но одиноким, своим, не чужим сердцем <…>; он романтик, - романтизм есть не что иное, как апофеоза личности. <…> Такая эпоха теорий, не условленных действительностью, а потому и не желающих применения, мечтательных и неопределенных порывов, избытка сил, которые собираются низвергнуть горы, а пока не хотят или не могут пошевельнуть соломинку, - такая эпоха необходимо повторяется в развитии каждого; но только тот из нас действительно заслуживает название человека, кто сумеет выйти из этого волшебного круга и пойти далее, вперед, к своей цели.
«Избыток сил, которые собираются низвергнуть горы, а пока не хотят или не могут пошевельнуть соломинку» - как об этом прямо говорят молодые герои романа: «Мы ломаем, потому что мы сила… Да, сила - так и не дает отчета», - и рядом:
- Так, - перебил Павел Петрович, - так: вы во всем этом убедились и решились сами ни за что серьезно не приниматься.
- И решились ни за что не приниматься, - угрюмо повторил Базаров.
Ему вдруг стало досадно на самого себя, зачем он так распространился перед этим барином.
Однако в литературоведении уже отмечалось, что, как бы ни было досадно Базарову, а он и впрямь ничего особенного в романе не совершил, так что его выразительные выступления действительно больше похожи на «мечтательные и неопределенные порывы».
«Подобная романтическая эпоха настала для Германии во время юности Гете», - отмечал Тургенев. Подобную же романтическую эпоху, судя по всему, видел он и в конце 1850-х годов: не случайно в знаменитом начале романа столь точно обозначено время его действия.
<…> Стремление всего человечества к тому, что находится вне собственной, земной жизни, это стремление, это коренное начало средних веков <…> отозвалось могущественно и неотразимо в душе Фауста. Фауст - сын своего прошедшего. Но не менее сильно выразилось в нем начало противоположное, начало новейшего времени - автономии человеческого разума и критики.
От подчинения многовековым, как ему представляется, предрассудкам Фауст стремится перейти к непосредственному познанию, непосредственному общению с природой. В этой связи чрезвычайно важно то, что он, как и его отец, лекарь, - в этой преемственности наиболее остро ощущается контраст эпох:
Иного только потому
Ужасный миновал конец,
Что нам тогда избыть чуму
Помог покойный ваш отец.
Вас не пугал ее очаг.
И - юноша еще тогда -
Входили вы к больным в барак
И выходили без вреда.
(Перевод Б. Пастернака)
Подобно отцу, Фауст с младых ногтей лечил окрестных жителей, в том числе и от чумы, хотя и не может без стыда вспоминать о том, какими алхимическими снадобьями травил своих пациентов по воле отца. Базаров также потомственный врач. Его отец был к моменту действия романа «отставной штаб-лекарь». «Много, много испытал я на своем веку. Вот, например, если позволите, я вам расскажу любопытный эпизод чумы в Бессарабии», - развлекает он друзей, Евгения и Аркадия, на следующий день после их приезда. Сам Базаров говорит о себе: «Я <…> будущий лекарь, и лекарский сын, и дьячковский внук». Вернувшись в последний раз к отцу, «он стал участвовать в его практике, не переставая в то же время подсмеиваться и над средствами, которые сам же советовал, и над отцом, который тотчас же пускал их в ход». Наконец, смерть его происходит от заражения при вскрытии тифозного мужика.
Базаров - неустанный труженик в природе; Тургенев постоянно показывает его то с сачком, то с микроскопом, то с ланцетом. Таков же и Фауст. Неудивительно поэтому, что и знаменитый базаровский афоризм «Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник» восходит к Гете:
О деятельный гений бытия,
Прообраз мой!
Многие поколения читателей и исследователей задавались вопросом: почему же все-таки один из любимых героев Тургенева умирает так рано, практически ничего не совершив. На наш взгляд, ответ на это вопрос дал сам Тургенев в рецензии на перевод Вронченко:
Фауст, с начала до конца трагедии, заботится об одном себе. Последним словом всего земного для Гете <…> было человеческое я <…> И вот это я, это начало, этот краеугольный камень всего существующего, не находит в себе успокоения, не достигает ни знания, ни убеждения, ни даже счастия, простого обыкновенного счастия…Для Фауста не существует общество, не существует человеческий род: он весь погружается в себя; он от одного себя ждет спасения. С этой точки зрения трагедия Гете является нам самым решительным, самым резким выражением романтизма, хотя это имя вошло в моду гораздо позже.
Именно поэтому ни Фауст, ни тем более его литературный потомок Базаров не достигают примирения с миром. Подобно Фаусту, Базаров и презирает этот мир, и стремится помочь ему. В «Отцах и детях» неоднократно подчеркивается увиденная глазами обычных смертных колоссальная гордость Базарова:
«Эге, ге!. . » - подумал про себя Аркадий, и тут только открылась ему на миг вся бездонная пропасть базаровского самолюбия.
«А этот бедный молодой человек, этот ученик, который смиренно приходит попросить советов у Фауста, - с какой аристократической, небрежной иронией потешается Гете над ним и вообще над молодым поколением, которое не может возвыситься до гениальности, - над ограниченной толпой!» - пишет Тургенев о Вагнере, ученике Фауста, и мы сразу же узнаем черты Аркадия Кирсанова. То же буквальное, книжное, в сущности ложное понимание своего учителя. То же ощущение себя звеном в преемственной цепи поколений. То же филистерское спокойствие, смиренная чистота, не подозревающие ни о каких адских глубинах. Неслучайно и имя героя - «Аркадий», подчеркивающее его райскую, идиллическую умиротворенность.
Но если допустить, что в образах Базарова и Аркадия Кирсанова в превращенном виде отразились образы Фауста и Вагнера, тогда уместно задаться вопросом: где же в «Отцах и детях» Мефистофель?
В истории развития человеческого сознания «Фауста» можно почитать самым полным (литературным) выражением эпохи, разделяющей средние века от нового времени. И так как всякое, даже положительное начало должно, при первом появлении своем, носить характер отрицательный (иначе оно себе никогда не завоюет места), то и весьма понятно, почему оно, это начало, у Гете, современника Вольтера, приняло образ Мефистофеля. Мефистофель - это новое время; это тот XVIII век <…> дух отрицания и критики…
Не является ли нам Фауст скептиком с самых первых слов своих?. . Сам Фауст - не тот же ли Мефистофель в своем разговоре с Вагнером, этим немцем par excellence, этим типом «филистера»? Наконец, он, Мефистофель, не есть ли необходимое, естественное, неизбежное дополнение Фауста?. . Да и сам Мефистофель часто - не есть ли смело выговоренный Фауст?
Мефистофель - бес каждого человека, в котором родилась рефлексия; он воплощение того отрицания, которое появляется в душе, исключительно занятой своими собственными сомнениями и недоумениями; он - бес людей одиноких и отвлеченных <…> Повторяем, Мефистофель страшен только потому, что до сих пор его почитают страшным. . .
Фауст есть тот же Мефистофель, или, говоря точнее, Мефистофель есть отвлеченный, олицетворенный элемент целого человека Фауста <…> Всякий не «мудрствующий» не может не чувствовать внутренней, неразрывной связи, соединяющей Фауста с Мефистофелем; он не может не признать в этих двух фигурах проявления одной и той же личности - личности творца их.
В образе Базарова мы, таким образом, должны видеть внутреннюю двойственность - и фаустовское, и мефистофелевское начало. Эта двойственность главного тургеневского героя объясняет тот факт, что в «Отцах и детях» Базарову приписаны высказывания, восходящие к репликам как Фауста, так и Мефистофеля. Оба персонажа Гете искусно объединены Тургеневым в единое образное поле, тем более что и сама трагедия дает для этого немало оснований.
От Мефистофеля в нем то, что связано с отрицанием, в первую очередь «нигилизм»:
- Нигилист, - проговорил Николай Петрович. - Это от латинского nihil, ничего, сколько я могу судить; стало быть, это слово означает человека, который… который ничего не признает?
- Нигилист - это человек, который не склоняется ни перед какими авторитетами, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением ни был окружен этот принцип,
- уточняет Аркадий. А чуть позже Базаров заметит: «В теперешнее время полезнее всего отрицание - мы отрицаем». Нельзя не вспомнить знаменитую автохарактеристику Мефистофеля при знакомстве с Фаустом:
Я дух, всегда привыкший отрицать!
И с основаньем: ничего не надо.
Нет в мире вещи, стоящей пощады…
Так возникает, например, мотив человеческого ничтожества, реализующийся в образе червяка. Базаров при последнем свидании говорит Одинцовой: «Вы посмотрите, что за безобразное зрелище: червяк полураздавленный, а еще топорщится» (VII, 183). Но так называет себя и Фауст:
Я здесь, и где твои замашки?
По телу бегают мурашки.
Ты в страхе вьешься, как червяк?
Вообще же образ человека как червя восходит к 21 псалму.
Двуединое фаусто-мефистофелевское начало Базарова выражено в сюжете и композиции произведения, о которых писалось неоднократно. Знаменитая симметрия «Отцов и детей» (роман словно распадается на две части: главы I-XIV и XV-XXVIII) как раз и возникает оттого, что мефистофелевское, отрицающе-насмешливое, отчужденное от человеческого отношение к миру постепенно заменяется и вытесняется (хотя и не полностью) фаустовским, напряженно ищущим и напряженно-человеческим.
Классический тип женской красоты
Этот поиск проявляется, в частности, в двух типах красоты, на которые отзываются и Фауст, и Базаров, - классическом и романтическом. В «Фаусте» их носителями являются Елена и Гретхен, в «Отцах и детях» - Фенечка и Одинцова.
Если Фауст движется от Гретхен к Елене, и в этом проявляется концепция Гете, то Базаров в первый свой приезд в Марьино обратил на Фенечку внимания не больше, чем на всех остальных. Его настоящее внимание к женщинам начинается именно с Одинцовой.
В облике этой героини писатель всячески подчеркивает черты классического идеала. По Гегелю, основными чертами классического идеала красоты являются «радостное спокойствие и блаженство, самодовление в своей замкнутости и удовлетворенность».
Вспомним первое появление Одинцовой:
Аркадий оглянулся и увидел женщину высокого роста в черном платье, остановившуюся в дверях залы. Она поразила его достоинством своей осанки. Обнаженные ее руки красиво лежали вдоль стройного стана; красиво падали с блестящих волос на покатые плечи легкие ветки фуксий; спокойно и умно, именно спокойно, а не задумчиво, глядели светлые глаза из-под немного нависшего белого лба, а губы улыбались едва заметною улыбкою. Какою-то ласковой и мягкой силой веяло от ее лица.
И затем Тургенев неоднократно подчеркивает в Одинцовой «милое, важное и умное лицо», «совершенное спокойствие» ее лица, глаз, светившихся «вниманием безмятежным». Особый интерес представляет для нас развернутая характеристика героини:
Анна Сергеевна была довольно странное существо. Не имея никаких предрассудков, не имея даже никаких сильных верований, она ни перед чем не отступала и никуда не шла. Она многое ясно видела, многое ее занимало, и ничто не удовлетворяло ее вполне; да она едва ли и желала полного удовлетворения. Ее ум был пытлив и равнодушен в оно и то же время: ее сомнения не утихали никогда до забывчивости и никогда не дорастали до тревоги.
Ср. у Гегеля:
Идеальный художественный образ предстает перед нами как некий блаженный бог. Блаженные боги не принимают всерьез бедствий, гнева и заинтересованности конечными сферами и целями, и эта положительная сосредоточенность внутри себя и отрицание всего особенного сообщает им черту радостности и тихого спокойствия.
Тургенев акцентирует единство душевного спокойствия и телесной красоты героини; ее тело является пластическим выражением внутренней безмятежности:
Воображение ее уносилось даже за пределы того, что по законам обыкновенной морали считается дозволенным; но и тогда кровь ее по-прежнему тихо катилась в ее обаятельно стройном и спокойном теле.
После объяснения с Базаровым она «заснула, вся чистая и холодная, в чистом и душистом белье».
По словам Гегеля,
<…> классическая художественная форма представляет собой свободное адекватное воплощение идеи в образе, уже принадлежащем ей в соответствии с ее понятием. Поэтому идея может достигнуть полного свободного соответствия со своим образом. Следовательно, лишь классическая форма создает завершенный идеал и дает нам возможность созерцать его как осуществленный. <…> Своеобразие содержания в классическом искусстве состоит в том, что оно само является конкретной идеей и в качестве таковой конкретно духовным началом, ибо лишь духовное есть подлинно внутреннее. <…> Но в классической форме искусства человеческое тело в его формах уже не признается больше только чувственным бытием, а рассматривается как внешнее бытие и естественный образ духа.
Это же чувствует и Базаров. Будучи в начале отношений с Одинцовой более мефистофелевским, нежели фаустовским персонажем, он выражает свое отношение знаменитой репликой: «Этакое богатое тело! <. . . > хоть сейчас в анатомический театр!». А по приезде в Никольское замечает ей: «<…> У вас нрав спокойный и холодный <…>» «Как это вы успели меня узнать так скоро?» - пытается возразить ему Одинцова, но Базаров прав: ее нрав воплощен в ее теле.
Точно такое же впечатление производит Елена Прекрасная при появлении во второй части «Фауста». Мужчины единодушно отмечают её величественную красоту. В то же время дамы завистливо указывают на физические недостатки (маленькая голова, крупная нога) и сомнительный моральный облик богини (ср. об Одинцовой: «Ее не любили в губернии, ужасно кричали по поводу ее брака с Одинцовым, рассказывали про нее всевозможные небылицы <…>»).
В «Фаусте» Елена Прекрасная приходит из глубины веков. Видимо, не случайно и Одинцова говорит: «Я очень устала, я стара, мне кажется, я очень давно живу». Таких перекличек между обеими героинями довольно много.
Классический идеал искусства наиболее адекватно выражает «объективное искусство скульптуры» (Гегель). Прекрасное тело Одинцовой должно вызывать в читателе ассоциации с античными скульптурами. И здесь уместно сказать несколько слов о тургеневском юморе.
Красавица со сломанным носом как гротескная фигура
Юмор этот действительно специфичен. Стилистическая мягкость Тургенева создает обманчивое впечатление отсутствия у него чувства юмора, особенно на фоне Гоголя. А между тем Тургеневу не чужд даже гротеск. Но если у Гоголя, если так можно выразиться, гротеск и парадигматичен и синтагматичен, то у Тургенева он возникает лишь в отдельных частях сюжета, да и то в подтексте.
Вот на балу, то есть в середине романа, Базаров впервые видит Одинцову: «Нос у ней был немного толст, как почти у всех русских», - вскользь замечает Тургенев и как будто не возвращается к этой теме. А ближе к концу романа решающее объяснение Аркадия с Катей происходит в портике, построенном покойным Одинцовым:
Покойный Одинцов не любил нововведений, но допускал «некоторую игру облагороженного вкуса» и вследствие этого воздвигнул у себя в саду, между теплицей и прудом, строение вроде греческого портика из русского кирпича. На задней, глухой стене этого портика, или галереи, были вделаны шесть ниш для статуй, которые Одинцов собирался выписать из-за границы. Эти статуи долженствовали изображать собою: Уединение, Молчание, Размышление, Меланхолию, Стыдливость и Чувствительность. Одну из них, богиню Молчания, с пальцем на губах, привезли было и поставили; но ей в тот же день дворовые мальчишки отбили нос <…>
Итак, тело Одинцовой статуарно. Нос у статуи отбит, зато у Одинцовой - немного толст. Это значит, что, когда статуя ожила и стала Одинцовой, ей заново приделали отломанный нос. Иными словами, Одинцова - это ожившая из статуи красавица со сломанным и приделанным носом, то есть фигура чисто гротескная. Какие уж тут цельность и спокойствие характера! Перед нами - пластически выраженный схизис, и Одинцова, кстати, его осознает. Но от внимания Базарова он ускользает потому, что, во-первых, он понимает людей несколько схематично, а значит, поверхностно, а во-вторых, влюбленные мужчины вообще, как правило, глупы.
Эти же обстоятельства, кстати, объясняют и любовную неудачу Базарова. Он думал, что справится с Одинцовой как с лягушкой: «<…> я лягушку распластаю да посмотрю, что у нее там внутри делается» (вспомним: «Этакое богатое тело! <. . . > хоть сейчас в анатомический театр»), но обломал об Одинцову свой ланцет, потому что здесь нужен не скальпель понимания, а резец творения, которым Базаров не владеет. Появление в романе подобной фигуры свидетельствует о том, что сюжет о Фаусте подвергся у Тургенева рефлексии .
Романтический тип женской красоты
В противоположность классическому искусству,
бесконечная субъективность, абсолютное начало романтического искусства не погружено в свое явление, оно внутри себя и вследствие этого обладает своим внешним не для себя, а для других в качестве свободного и доступного каждому внешнего аспекта. Далее, это внешнее должно принять облик обыденного, эмпирически-человеческого, так как сам бог нисходит здесь в конечное, бренное существование <…>
Именно это и происходит с Гретхен и Фенечкой. Обе они предстают в начале повествования скромными девушками из простонародья, живущими вместе с матерью. Любопытно, что, впервые заночевав в далеком уездном городе на постоялом дворе, который содержала мать Фенечки, и отметив «чистоту отведенной ему комнаты, свежесть постельного белья», Николай Петрович подумал: «Уж не немка ли здесь хозяйка?» Фауст встречает Маргариту по дороге из церкви. Николай Петрович также «замечал в приходской церкви, где-нибудь в сторонке, тонкий профиль <…> беленького лица» Фенечки. Вылечив ее воспаленный глаз, «он начал с бóльшим вниманием глядеть на нее в церкви, старался заговаривать с нею».
Ему все мерещилось это чистое, нежное, боязливо приподнятое лицо; он чувствовал под ладонями рук своих эти мягкие волосы, видел эти невинные, слегка раскрытые губы, из-за которых влажно блистали на солнце жемчужные зубки.
Ср. слова Фауста:
О небо, вот так красота!
Я в жизни не видал подобной.
Как неиспорченно-чиста
И как насмешливо-беззлобна!
Багрянец губ, румянец щек, -
Я их вовеки не забуду!
Несмело покосилась вбок,
Потупив взор, - какое чудо!
Самое сильное и адекватное впечатление о внутреннем мире этих героинь дает описание их комнат.
Павел Петрович остался один и на это раз с особенным вниманием оглянулся кругом. Небольшая, низенькая комнатка, в которой он находился, была очень чиста и уютна.
А вот Фауст оказался в покоях Маргариты:
Любимой девушки покой,
Святилище души моей,
На мирный лад меня настрой,
Своею тишиной обвей.
Невозмутимость, тишь да гладь,
Довольство жизнью трудовой
Кладут на все свою печать,
Налет неизгладимый свой.
Базаровская попытка соблазнить Фенечку, приводящая к его дуэли с Павлом Петровичем, происходит в беседке и прямо отсылает к сцене «Беседка в саду» из «Фауста».
Нас не должно смущать то обстоятельство, что к началу действия Маргарита - невинная девушка, а Фенечка - мать ребенка Николая Петровича; в обеих героинях автор подчеркивает душевную чистоту. По словам Гегеля,
любовь мы можем обозначить как идеал романтического искусства в его религиозном кругу. Она духовная красота как таковая <…> Особенно доступна для искусства в религиозном круге любовь Марии, материнская любовь, наиболее примечательный предмет религиозной романтической фантазии.
Дуэль Павла Петровича и Базарова представляет собой пародию на драку Валентина с Мефистофелем и Фаустом в погребке. Как и всякая пародия, она сохраняет смысл подлинника: брат защищает честь сестры. Об этом свидетельствует и разговор между братьями Кирсановыми примерно через неделю после дуэли. Павел благословляет Николая жениться на Фенечке. «Итак, это дело решенное: Фенечка будет моею… belle-soeur». Французский перевод слова «свояченица» обнажает тот братско-сестринский характер отношений между Павлом Петровичем и Фенечкой, который и отсылает нас к «Фаусту».
Таким образом, в самом знаменитом романе Тургенева можно видеть вариант фаустовского инварианта, прочитанного во многом сквозь призму Гегеля, - превращенный и отрефлектированный. Но этот угол зрения - лишь один из возможных.
Балахон Базарова и роман М. Н. Загоскина «Брынский лес»
А теперь зайдем с другой стороны и поговорим о том, как в «Отцах и детях» отразились представления Тургенева о старообрядцах и русской истории. И для этого оттолкнемся от внешности Базарова.
Вспомним начало романа. Николай Петрович Кирсанов со своим слугой ждет сына Аркадия на постоялом дворе. Сын возвращается из университета, но не один: с ним его «добрый приятель».
Николай Петрович быстро обернулся и, подойдя к человеку высокого роста в длинном балахоне с кистями, только что вылезшему из тарантаса, крепко стиснул его обнаженную руку, которую тот не сразу ему подал.
- Душевно рад, - начал он, - и благодарен за доброе намерение посетить нас; надеюсь… позвольте узнать ваше имя и отчество?
- Евгений Васильев, - отвечал Базаров ленивым, но мужественным голосом и, отвернув воротник балахона, показал Николаю Петровичу все свое лицо. Длинное и худое, с широким лбом, кверху плоским, книзу заостренным носом, большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами песочного цвету, оно оживлялось спокойной улыбкой и выражало самоуверенность и ум.
- Надеюсь, любезнейший Евгений Васильич, что вы не соскучитесь у нас, - продолжал Николай Петрович.
Тонкие губы Базарова чуть тронулись; но он ничего не отвечал и только приподнял фуражку. Его темно-белокурые волосы, длинные и густые, не скрывали крупных выпуклостей просторного черепа.
Итак, при появлении главного героя романа автор акцентирует наше внимание на необычном лице Базарова и на его манере разговаривать, выражающей вполне определенное отношение к собеседнику. Но первым привлекает наше внимание балахон Базарова. Что это за одеяние? Почему именно оно на Базарове в момент нашего знакомства с ним? Тщетно мы будем искать ответы на эти вопросы: их нет ни в комментариях к роману, ни в работах о костюме в русской культуре. Думаю, следы этого балахона следует искать не в пыльном чулане, среди истлевших халатов, фраков брусничного цвета с искрой и прочих драдедамовых платков, а в истории литературы, религии и общественной мысли.
В 1846 году из печати вышел роман М. Н. Загоскина «Брынский лес. Эпизод из первых годов царствования Петра Великого». Роман этот известен хуже, чем ранние исторические сочинения того же автора, тем более что при советской власти он вообще не переиздавался, а затем вышел всего один раз. Его действие происходит летом 1682 года и начинается, судя по всему, 4 июля. Сын покойного стрелецкого головы Дмитрий Афанасьевич Левшин возвращается в Москву примерно через полтора месяца после так называемой Хованщины (происходившей 15-17 мая).
Всё это время, как следует из романа, Левшин находился в Костроме, где вступал в наследование родовым поместьем своего скончавшегося дяди Семена Яковлевича Денисова. Попутно мы узнаем о том, что есть у него еще один дядя, Андрея Яковлевич - старовер, которого Левшин в глаза не видывал, но который, по словам его сестры - покойной матушки Левшина, «сначала спасался в Соловках, после жил за Онегою, а там отправился на житье в Стародуб». Где он теперь, не знает никто.
Будучи, в отличие от большинства стрельцов, потомственным дворянином и принадлежа по матери к роду князей Мышецких, Левшин нисколько не сочувствует врагам Петра и поборникам старой веры и не скрывает своего возмущения их действиями. Его сослуживцы-стрельцы решают убить его, о чем Левшину сообщает один из немногих его единомышленников. Чтобы стрельцы не нашли Левшина, его решают вывезти из Москвы, а до этого времени на несколько дней укрыть на постоялом дворе в Зарядье, который содержит старообрядка и где Левшин будет вне опасности и подозрений.
Сидя в подполе постоялого двора, Левшин в стенную щель видит, что его соседкой оказалась прекрасная девица по имени Софья Андреевна «с гибким станом и почти бледными щеками». Судя по тем разговорам, которые ведет она со служанкой и которые Левшин смог подслушать, в Москву её привез приехавший по своим делам отец-старообрядец, который не хочет выпускать её на улицу во избежание соблазнительных знакомств. Впрочем, как свидетельствует сюжет романа, от соблазнов даже в подполе не убережешься.
На следующий день Левшин узнает, что в Грановитой палате состоялись прения о вере (это произошло 5 июля 1682 года). После жарких прений, победителями в которых считает себя каждая из сторон, обстановка резко меняется: казнят священника Никиту Добрынина по прозвищу Пустосвят - вождя московских староверов. , Но все же от греха подальше боярин Буйносов отправляет Левшина в свое подмосковное имение, а затем и вовсе отсылает его под Калугу, в Брынские леса, к своему другу боярину Куродавлеву.
Из разговоров действующих лиц читатель понимает, что Брынский лес - глухое место и что любимый дядя Левшина, Семен Яковлевич, проведя тридцать лет в расколе, незадолго до смерти трогательно воссоединился с реформированной Церковью, то есть оказался, как того и требуют традиции отечественной словесности, самых честных правил. Зато другой дядя, Андрей Яковлевич, проклял своего брата как вероотступника. Узнаем и о том, что одна из дочерей Буйносова потерялась в Брынских лесах.
И вот при въезде в Брынские леса Левшин и его слуга Ферапонт проезжают через постоялый двор в Красном Стане.
У самых ворот постоялого двора, поодаль от других, сидел на скамье человек пожилых лет, в коротком суконном балахоне с узкими рукавами. Это платье, не подпоясанное ни кушаком, ни поясом, было застегнуто в двух местах на медные круглые пуговицы. На левой руке его висели кожаные четки, которые оканчивались, вместо креста, двумя треугольниками, также кожаными. <…> Наружность этого проезжего была довольно замечательна. Длинная с проседью борода, приглаженная и расчесанная с большим старанием, но к которой, сколько можно было заметить, никогда не прикасались ножницы; курчавая голова, крутой, широкий лоб, вздернутый кверху нос и серые угрюмые глаза, по временам задумчивые, а иногда сверкающие и исполненные жизни - все это составляло физиономию не очень красивую, но весьма выразительную и носящую на себе отпечаток какого-то самобытного и твердого характера.
Это, как оказывается впоследствии, и есть Андрей Яковлевич Денисов по прозвищу Поморянин - дядя Левшина, скрывшийся в Брынских лесах.
Излишне говорить, что с историческими прототипами - братьями Андреем и Симеоном Денисовыми, основателями староверческой Выголексинской пустыни на территории современной Карелии, у героев Загоскина нет решительно ничего общего. Начать с того, что в год действия романа реальному Андрею было всего восемь лет, а реальный Симеон и вовсе только родился. Приступив в 1690-х гг. к созиданию пустыни, они преемственно (сначала Андрей, а после его кончины - Симеон) были её начальниками, киновиархами. Никто никуда не уходил, не переходил, а уж говорить о наличии детей у настоятелей монастыря и вовсе нелепо. Однако Загоскину это было совершенно неважно, и дальше я скажу, почему.
Нам ничего не известно о знакомстве Тургенева с романом Загоскина, хотя, учитывая исключительную популярность Загоскина-романиста в то время, таковое более чем вероятно, тем более что Тургенев был с Загоскиным в добрых отношениях и даже оставил о нем мемуары. Важно другое. Обращает на себя тот факт, что портрет Базарова кажется репликой на портрет Денисова.
Сравним:
Денисов - «в коротком суконном балахоне с узкими рукавами», Базаров - «в длинном балахоне с кистями»;
у Денисова - «крутой, широкий лоб, вздернутый кверху нос и серые угрюмые глаза, по временам задумчивые, а иногда сверкающие и исполненные жизни», у Базарова - лицо «длинное и худое, с широким лбом, кверху плоским, книзу заостренным носом, большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами песочного цвету»;
у Денисова «физиономия не очень красивая, но весьма выразительная и носящая на себе отпечаток какого-то самобытного и твердого характера», у Базарова лицо «оживлялось спокойной улыбкой и выражало самоуверенность и ум».
Денисов вступает в разговор короткими репликами-подхватами, представляющими собой категорические суждения. По отношению к прочим они исполнены высокомерия. Так, рядом с ним купец с приказчиком обсуждают недавние события в Москве:
Вот стрельцы поугомонились, так залаяли эти псы нечестные - стригольники, аввакумовцы и разные другие еретики; а пуще-то всех этот предерзостный аввакумец, расстрига Никита Пустосвят, - сей волк несытый, достойно стяжавший…
- Венец мученический! - прервал проезжий в балахоне.
Завидев главного героя романа, Левшина, в стрелецком одеянии, купец в суждениях о неправославности стрельцов начинает осторожничать:
И что мне до этого?. . На то есть пастыри духовные - а я что?. . Я человек торговый, не богослов какой…
- Неправда! - сказал громко проезжий в балахоне. - Ты точно богослов, да только не однослов.
Вслед за этим между Левшиным и Денисовым (чья личность пока Левшину не известна) завязывается разговор, в ходе которого Денисов отвечает Левшину репликами не только короткими, но и герметичными:
- Ты куда едешь, любезный? - спросил Левшин проезжего.
- На что тебе, молодец?. . Мы с тобой не попутчики. Вишь, вы как своих-то коней упарили, я моих лошадок берегу.
- Вот что!. . Так тебе, видно, далеко еще ехать?
- Далеко или близко, не о том речь. Коней-то можно и на пяти верстах уморить.
- Ты здешний, что ль, или из другой какой стороны?
- Да мы покамест все здешние, вот как переедем на иное место…
Сравним это с тем, как Базаров разговаривает с братьями Кирсановыми:
- Вы собственно физикой занимаетесь? - спросил в свою очередь Павел Петрович.
- Физикой, да; вообще естественными науками.
- Говорят, германцы в последнее время сильно успели по этой части.
- Да, немцы в этом наши учители, - небрежно отвечал Базаров. …
- Вы столь высокого мнения о немцах? - проговорил с изысканною учтивостью Павел Петрович. Он начинал чувствовать тайное раздражение. …
- Тамошние ученые дельный народ».
В таких же разговорах рождаются и знаменитые базаровские афоризмы.
Еще пример разговора Левшина с Денисовым:
- Я спрашиваю тебя, откуда ты родом?
- Откуда родом?. . Да, чай, мы оба с тобой родились на святой Руси.
- Да Русь-то велика, любезный!. . Вот я, например, я родом из Москвы, а ты откуда?
- Не знаю. Мне покойная матушка не сказывала, где я родился.
- Экий ты какой!. . Ну, где твой дом?
- Как построю, так буду знать, а теперь не ведаю.
- Не знаю, не ведаю!. . Что ж ты знаешь!
- Что знаю?. . Да, не прогневайся, побольше твоего.
В рамках литературной характерологии, разработанной В. П. Рудневым, и загоскинский Поморянин, и тургеневский Базаров принадлежат к одному и тому же эпилептоидному типу.
Эпилептоидами называют напряженно-авторитарных людей, для которых характерны следующие ментальные характеристики: прямолинейность и вязкость мышления, дисфория, то есть болезненная раздражительность и агрессивность, тяготение к власти и всему, что связано с властью <…> Особенностями эпилептоидов также считаются склонность к образованию сверхценных идей (что роднит их с параноиками) и мощные сексуальные влечения (что роднит их с циклоидами).
Эпилептоид - это прежде всего суровый и бескомпромиссный обличитель:
Характерными для эпилептоидного дискурса являются аффективно окрашенные восклицания и вопрошания как выражения идеи обличения, устрашения или авторитарного призыва к действию <…>
Однако «эпилептоидный проект - это пропорция между прямолинейностью и хитростью; скромностью и властолюбием». Вот Андрей Поморянин, наследник князей Мышецких, влиятельнейший человек во всем староверии, инкогнито находящийся в Брынских лесах, отказывается выдать свою мнимую дочь (которая и сидела в подполе) за своего племянника Левшина:
- Ну что ж, Дмитрий Афанасьевич, - молвил наконец Андрей, - ты родовой человек, стрелецкий сотник, богатый помещик… Нет ли еще чего-нибудь?. . Уж ты разом все высказывай, а там я повалюсь тебе в ноги и завоплю: батюшка! чем заслужил я такую милость, что ты, знатный господин, желаешь породниться со мной, недостойным раскольником и безымянным человеком?. .
А вот Базаров ставит на место Павла Петровича Кирсанова:
- Мой дед землю пахал, - с надменною гордостию отвечал Базаров. - Спросите любого из ваших же мужиков, в ком из нас - в вас или во мне - он скорее признает соотечественника. Вы и говорить-то с ним не умеете.
- А вы говорите с ним и презираете его в то же время.
- Что ж, коли он заслуживает презрения!
Несмотря на внешний контраст, юродство Поморянина и мужицкая гордость Базарова имеют одну основу.
«Программа, жизненный проект, заложенный в эпилептоидном человеке, направлены не на созидание, а на агрессию, на уменьшение мира вокруг, что ведет с неумолимой логикой к автодеструкции в качестве логического завершения этой программы», - пишет Руднев. В результате Андрей Денисов лишается приемной дочери, а Базаров и вовсе умирает.
«Противораскольничий» роман Загоскина как прототип романа о нигилистах
Но самое главное сходство между романами Загоскина и Тургенева - в атмосфере ожесточенного идейного противостояния, идейного раскола общества. На страницах «Брынского леса» то и дело сталкиваются «раскольники» и «никонианцы». Споря о вере, они вовсе не ведут какое бы то ни было подобие диалога, а по большей части обмениваются обличительными монологами, язвительно унижают оппонентов и даже дерутся с ними. Очные и заочные «прения о вере» проходят через весь роман, влияя, как это и принято в романах «вальтер-скоттовской традиции», даже на любовную интригу.
Это и неудивительно, ибо псевдоисторический роман Загоскина во время выхода - в 1846 году - был не менее актуален, нежели роман Тургенева в момент своего обнародования. Именно в год публикации загоскинского произведения произошло одно из важнейших для старообрядчества событий - восстановление трехчинной иерархии путем присоединения митрополита Амвросия. Случайно ли совпадение этих событий во времени?
Как известно, император Николай I считал уничтожение старообрядчества (да и вообще всякого инакомыслия) одной из основных задач своего царствования; об этом написано много. Его стремление окончательно истребить старообрядческое священство привело к тому, что после ряда безуспешных ходатайств о смягчении преследований древлеправославные христиане решили устроить за границей России архиерейскую кафедру, дабы иметь недосягаемый для царской охранки духовный центр (по некоторым сведениям, эту идею им подал не кто иной, как начальник этой самой охранки граф А. Х. Бенкендорф). Учреждение Белокриницкой митрополии не было одномоментным актом, а заняло около десяти лет - тех самых лет, когда в России в рамках борьбы за идейно-религиозную безопасность под лозунгом «Православие, самодержавие, народность» совершался разгром основных старообрядческих центров.
В 1845 году Белокриницкий монастырь посетил Н. И. Надеждин. Напомню, что этот критик и философ, выходец из духовного звания, прославился тем, что, будучи редактором журнала «Телескоп», опубликовал первое «Философическое письмо» Чаадаева, после чего журнал был закрыт, а сам Надеждин отправлен в ссылку. Процесс перековки бывшего либерала проходил в Министерстве внутренних дел, где Надеждин в 1840-х годах служил в комиссии по делам раскольников и скопцов, выполняя и специальные поручения. Одним из них и стала поездка в Белокриницкий монастырь, по итогам которой был написан доклад «О заграничных раскольниках». Там он сравнительно точно, хотя и небеспристрастно описал приготовления к принятию епископа:
<…> На деньги русских раскольников, согласно их назначению, открыто и с особенною спешностью делаются все нужные приготовления к принятию и водворению епископа, точно будто он уже в дороге. Собирается ризница и другие принадлежности, необходимые для архиерейского священнослужения; дому, где должен помещаться архиерей со своею свитою, предначертан план, заготовлены материалы и очищено место внутри монастыря; монастырская церковь перестроивается, чтоб получить размеры и вид, достойные предназначения ее быть кафедральным собором епископии. Все это я видел собственными глазами; все это показывали мне сами белокриницкие монахи с видом смиренно-лукавого торжества.
Трудно себе представить, чтобы по возвращении в Россию Надеждин не поделился впечатлениями от своей уникальной по тем временам поездки с любителями отечественной истории. Скорее всего, она обсуждалась и с Загоскиным, которому Надеждин был другом и единомышленником. Между романом «Брынский лес» и докладной запиской Надеждина есть прямые текстуальные совпадения. Одно из наиболее выразительных связано со значимой для обоих авторов фигурой юного Петра I. Вот что пишет Надеждин о раннем старообрядчестве:
Еще в колыбели раскол поднял знамя открытого бунта против церкви и против престола из-за стен Соловецкого монастыря; потом в несколько лет достиг до такой наглости, что, в лице буйных стрельцов, дерзнул - разбить мятежнический табор внутри самого Кремля, у священных врат Успенского собора, перед царственными ступенями Красного крыльца. По счастию, в это время спасительные бразды самодержавия находились в руках хотя и дитяти, но дитя это был Петр! К громам церковных проклятий присоединилась секира гражданской неумолимой кары, и мятеж был обезоружен, обезглавлен, задушен…
А вот как описывает Загоскин в романе развязку прений в Грановитой палате:
В эту минуту общего смятения царь Иоанн Алексеевич, Софья Алексеевна и весь двор <…> в несказанном страхе и слезах ушли из палаты, и на царском месте осталось одно десятилетнее дитя: но это дитя был Петр. <…> Голос царя Русского, как глас Божий, поразил мятежников. Стрельцы, державшие сторону раскольников, выдали их с руками.
Многочисленные отклонения от исторической правды, фольклорно-лубочное изображение староверов как фанатиков, невежд и злодеев в романе «Брынский лес», по всей видимости, не случайно совпали с усилением борьбы государства с «расколом». «Брынский лес», по сути, можно назвать псевдоисторическим миссионерским «противораскольничьим» романом. Однако, несмотря на его невысокие литературные достоинства, он и близкие к нему произведения (в этом ряду можно упомянуть и роман Лажечникова «Последний Новик», также замаскированный под исторический) оказались прототипами так называемого «идеологического» романа, получившего полное развитие уже в 1860-х годах, в эпоху споров вокруг нигилизма.
Между антистарообрядческим и антинигилистическим романами существует еще не вскрытая преемственность. В ней заключается объяснение и ряда других литературных явлений. Становится понятно, почему Тургеневу в лице Базарова виделась фигура «в pendant Пугачеву» и почему он в конце 1860-х годов хотел писать роман о священнике Никите Добрынине (Пустосвяте), хотя потом и отступил от этого замысла. Отсюда - шире - становится ясно, почему одних и тех же писателей (например, Достоевского и Лескова) интересовали такие далекие, казалось бы, темы, как староверие и нигилизм. Наконец, это, среди прочего, объясняет и такую деталь, как фамилия главного героя романа «Преступление и наказание», о которой написано немало. В ней, наряду с прочим, заложена жанровая память антинигилистического романа, истоки которого восходят к роману против «раскольников».
Что же касается балахона, с которого начались наши рассуждения, то ему в романе Загоскина отводится исключительно важное место. Он является характерным признаком Поморянина: «Ах он, балахонник!» - говорит о нем один персонаж; «А ты, господин родословный человек в сермяжном балахоне…» - обращается к нему другой. Да и сам Андрей, юродствуя, пользуется этим прозвищем. Однако балахон не является исключительной принадлежностью лишь этого героя: «в белом суконном балахоне» ходит еще один персонаж, беспоповский инок. Отсюда можно заключить, что балахоном Загоскин называет иноческую мантию старого обряда. Это, между прочим, представляет в новом свете и Базарова: он, хотя декларативно и «был великий охотник до женщин и до женской красоты», не случайно говорит Аркадию Кирсанову о своей «горькой, терпкой, бобыльной жизни», в которой так и не нашлось места ни одной женщине.
Лапоть Кирсанова и лапоть В. А. Кокорева
Таким образом, образ Базарова является прочтением, транскрипцией образа старообрядца, сложившегося в русской литературе к середине позапрошлого столетия. Теперь поставим вопрос с другой стороны: а как Тургенев относился не к легендарным, а к реальным староверам?
Во второй половине XIX столетия старообрядчество выходит на общероссийскую сцену. Староверам-предпринимателям к этому времени принадлежало около 60% частных капиталов. Среди них появились крупные деятели, определявшие лицо страны, влиявшие на целые отрасли промышленности и культуры и навсегда вписанные в отечественную историю, которую мы пока еще знаем плохо и однобоко.
Василий Александрович Кокорев. Художник: К. Штенберг
Среди самых известных в то время был Василий Александрович Кокорев (1817-1889). Ему принадлежали гостиницы и заводы, железные дороги и пароходства, соляные и золотые прииски, нефтепромыслы и телеграфные агентства, банки и страховые компании… И во многих сферах он был первый. Не случайно Иван Аксаков, вообще староверов не любивший, писал: «Я не могу опомниться от Кокорева! Это вполне русское чудо!»
Василий Александрович родился в Вологде, в семье купца-солеторговца, принадлежавшего к беспоповскому поморскому согласию. Семья владела небольшой солеварней на севере Костромской губернии. Образование Василия формально ограничилось обучением письму и счету, затем он пополнял его самостоятельно. После смерти родителей он стал совладельцем семейного бизнеса, но в 1839 году фамильная солеварня разорилась. Ему пришлось отправиться в Петербург, где он совершил первый поступок, который вывел его за пределы старообрядческой этики: он стал заниматься винными откупами, что всегда в староверии считалось грехом. Кокорев устроился помощником к одному из множества винных откупщиков.
Вскоре хозяин назначил его управляющим над всеми своими уральскими откупами, а в непродолжительном времени молодой предприниматель подал в правительство проект преобразования откупов, призванный «придать торговле вином более цивилизованный характер». После этого его вызвали в Петербург, где ему в 1844 году был предоставлен орловский (!) откуп. Напомню: родовое поместье Тургеневых находилось именно в Орловской губернии. За четыре года он ликвидировал недоимки в казну, после чего ему и его компаньону были отданы в исключительное управление, помимо орловского, еще 15 неисправных откупов, среди них щигровский (вспомним рассказ Тургенева «Гамлет Щигровского уезда»), брянский, ряжский и др.
Тургенев, без сомнения, хорошо знал Кокорева с этой стороны, хотя нигде напрямую и не упоминает его. Но вспоминаются сцены из «Отцов и детей»:
- Кстати, ваш батюшка все по откупам?
- По откупам, - торопливо проговорил Ситников и визгливо засмеялся. <…>
- Бутылка шампанского будет? - спросил Базаров.
- Три! - воскликнул Ситников. - За это я ручаюсь!
Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
Подробнее читайте на polit.ru
| Источник: polit.ru | Рейтинг новостей: 343 |