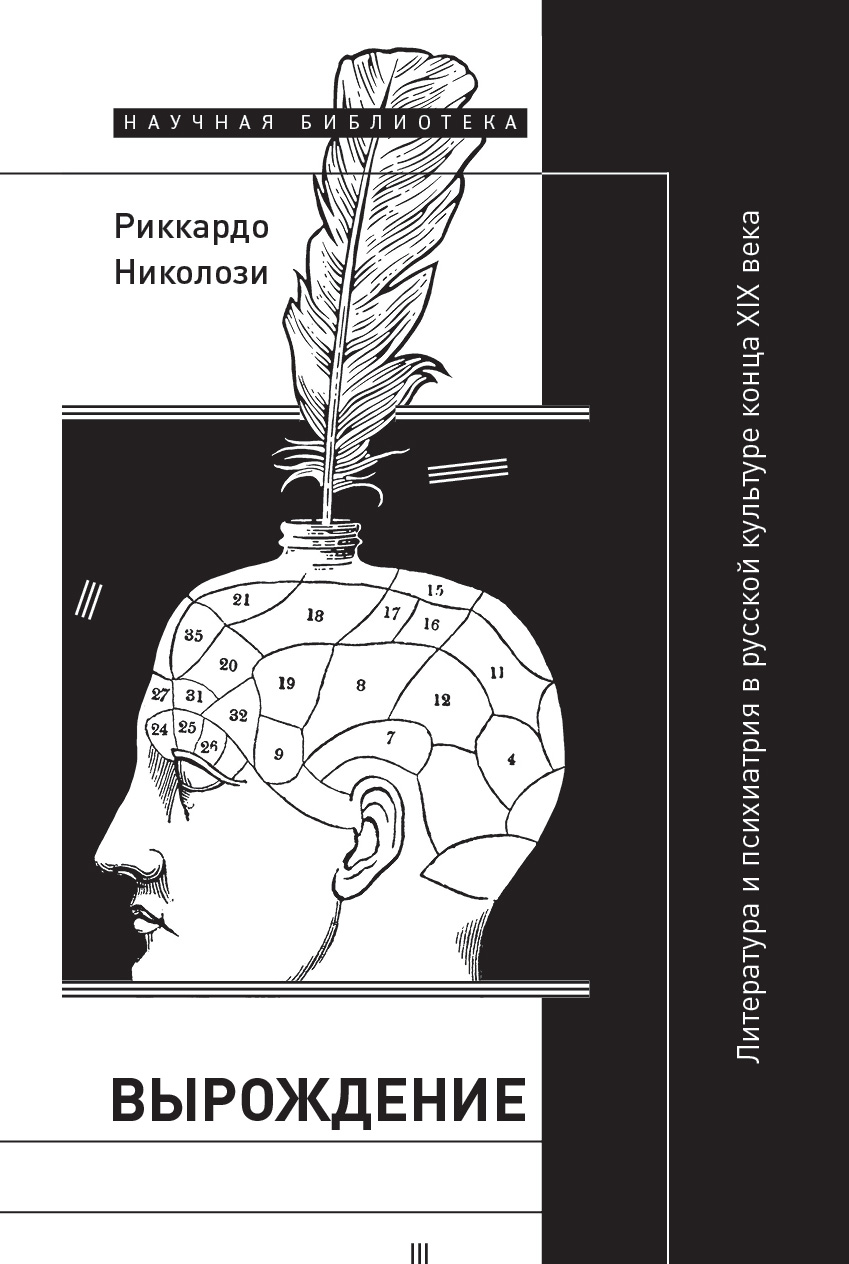
2019-3-25 10:00 |
В издательстве НЛО вышла книга заведующего кафедрой славянской филологии Мюнхенского университета Людвига и Максимилиана профессора Риккардо Николози «Вырождение: литература и психиатрия в русской культуре конца XIX века».
Научная теория о вырождении, возникшая в 1850-х годах во Франции и занявшая ведущую позицию в европейской психиатрии второй половины XIX - начала XX века и повлияла на различные области культуры. Поэтика натурализма и судебно-психиатрические исследования того времени, литература о жизни преступного мира и криминальная антропология, литературный дарвинизм и евгеника - все это рассматривается автором книги как различные проявления дискурса об упадке и вырождении, свойственного той эпохе. Такой подход позволяет по-новому взглянуть на многие произведения русской литературы.
В книге описывается становление психиатрической теории вырождения, возникновение вслед за этим традиции «романа о вырождении», начало которой положила эпопея Эмиля Золя «Ругон-Маккары». Русская литература, осваивая и видоизменяя созданный Золя тип романа, обратилась к этой теме даже раньше, чем российские психиатры взяли на вооружение соответствующие идеи своих французских коллег.
Мы публикуем отрывок из книги, в котором Риккардо Николози рассматривает эпизоды выступления психиатров в судебных заседаниях, описанные в романах Толстого и Достоевского.
В контексте художественного освоения судебной темы, происходящего в русской литературе после реформы 1864 года1, медицинские эксперты тоже становятся действующими лицами произведений, причем роль им обычно отводится отрицательная. Диагностический авторитет, приобретенный в судебной практике медициной, особенно психиатрией2, в литературе, как правило, становится объектом иронии и дискредитации. С этой точки зрения литература составляет негативный «пандан» судебно-психиатрической казуистике того времени, в рамках которой, как было показано на примере анализов Ковалевского (гл. VI. 1), решающую роль для «правильного» истолкования признаков играет экспертное заключение психиатра.
Знаменитый ранний пример такой литературной практики - медицинская экспертиза в романе «Братья Карамазовы». На уголовном процессе Дмитрия Карамазова Достоевский предоставляет слово трем экспертам: «светилу», выписанному Катериной Ивановной из Москвы, доктору Герценштубе и молодому врачу Варвинскому, - которые выносят заключение о душевном состоянии обвиняемого. Хотя в «Дневнике писателя» (1873-1881) обсуждение медицинского вопроса о «временном аффекте» у преступников имеет чрезвычайно противоречивый характер и - в зависимости от конкретного случая - Достоевский приводит подчас прямо противоположные аргументы3, в своем последнем романе он создает проникнутое гоголевским абсурдом комическое интермеццо, где пародийно изображает семиотическую «слепоту» ученых экспертов, чьи заключения к тому же обречены на заведомый провал уже самой метафизической смысловой структурой «Братьев Карамазовых». Речь «знаменитого доктора» из Москвы особенно изобилует стереотипными суждениями о случаях патологического аффекта, распространенными среди судебных экспертов того времени:
Московский доктор, спрошенный в свою очередь, резко и настойчиво подтвердил, что считает умственное состояние подсудимого за ненормальное, «даже в высшей степени». Он много и умно говорил про «аффект» и «манию» и выводил, что, по всем собранным данным, подсудимый пред своим арестом за несколько еще дней находился в несомненном болезненном аффекте и если совершил преступление, то хотя и сознавая его, но почти невольно, совсем не имея сил бороться с болезненным нравственным влечением, им овладевшим. Но кроме аффекта доктор усматривал и манию, что уже пророчило впереди, по его словам, прямую дорогу к совершенному уже помешательству4.
Читателю, которому уже известно о «нравственном возрождении» Мити и, соответственно, о его совершенно здоровом с христианской точки зрения душевном состоянии, эти слова кажутся гротескными. Кроме того, дискредитации медицинских экспертов служит ироническое подчеркивание их неспособности верно истолковать те или иные признаки: их интерпретация человеческого поведения принципиально ошибочна или избыточна. По мнению доктора Герценштубе, «ненормальность умственных способностей подсудимого» видна уже по тому, как он вел себя при входе в зал суда, держа «глаза впереди себя, упираясь, тогда как вернее было ему смотреть налево, где в публике сидят дамы, ибо он был большой любитель прекрасного пола и должен был очень много думать о том, что теперь о нем скажут дамы»5. «Московская знаменитость», в чьих глазах Герценштубе - ограниченный провинциальный лекарь, иронически возражает «ученому собрату»: Дмитрий «должен был смотреть не налево на дам, а, напротив, именно направо, ища глазами своего защитника, в помощи которого вся его надежда <…>»6. Наконец, молодой врач Варвинский, считающий подсудимого вменяемым, в подтверждение своей позиции оценивает его поведение при входе в зал как признак «совершенно нормального состояния», поскольку Дмитрий смотрел в сторону председателя и членов суда, «от которых зависит теперь вся его участь»7. Таким образом, поставленный Варвинским правильный диагноз нормального психического состояния Дмитрия предстает не следствием глубокого знания человеческой природы, а скорее случайным результатом судебно-медицинской алеаторики, допускающей какое угодно толкование признаков.
Объектом похожей перформативной иронии и дискредитации судебная психиатрия становится в романе Толстого «Воскресение», в котором можно, помимо прочего, усмотреть попытку развенчания всех распространенных тогда научных теорий преступления ввиду их причастности к системе яростно отвергаемых Толстым общественных институтов. Пространная театрализованная сцена судебных слушаний, в ходе которых главный герой, присяжный заседатель князь Нехлюдов, узнает в одной из обвиняемых, Катюше Масловой, свою юношескую любовь, некогда им соблазненную и брошенную, содержит заключительную речь самодовольного товарища прокурора, который, желая доказать вину подсудимых, прибегает для их характеристики к терминам криминальной антропологии. «Тут была и наследственность, и прирожденная преступность, и Ломброзо, и Тард, и эволюция, и борьба за существование, и гипнотизм, и внушение, и Шарко, и декадентство»8, - резюмирует рассказчик составленное обвинителем научное «попурри». Товарищ прокурора приходит к выводу о необходимости вынести подсудимым обвинительный приговор, чтобы оградить общество от опасности заражения, исходящей от преступника как элемента патологического:
«Господа присяжные заседатели, - продолжал между тем, грациозно извиваясь тонкой талией, товарищ прокурора, - в вашей власти судьба этих лиц, но в вашей же власти отчасти и судьба общества, на которое вы влияете своим приговором. Вы вникните в значение этого преступления, в опасность, представляемую обществу от таких патологических, так сказать, индивидуумов, какова Маслова, и оградите его от заражения, оградите невинные, крепкие элементы этого общества от заражения и часто погибели». И как бы сам подавленный важностью предстоящего решения, товарищ прокурора, очевидно до последней степени восхищенный своею речью, опустился на свой стул9.
Однако цели представить криминальную антропологию явлением пошлым служит не только иронический портрет товарища прокурора с его модной псевдонаучной риторикой. Прикрываемая ею аргументация тоже разоблачается как основанная на ложных выводах: утверждение обвинителя, назвавшего одну из подсудимых «жертвой наследственности», опровергает адвокат, подчеркивая, что родители его подзащитной неизвестны10. На это товарищ прокурора отвечает, что теория наследственности позволяет не только объяснить преступление наследственностью, но и наоборот:
После этого защитника опять встал товарищ прокурора и, защитив свое положение о наследственности против первого защитника тем, что если Бочкова и дочь неизвестных родителей, то истинность учения наследственности этим нисколько не инвалидируется, так как закон наследственности настолько установлен наукой, что мы не только можем выводить преступление из наследственности, но и наследственность из преступления11.
Ироническое изобличение Толстым биомедицинских теорий преступности, допускающих произвольную интерпретацию, напоминает об их карнавализованном изображении в «Братьях Карамазовых». Толстовская сатира наносит еще более мощный, нежели «гоголевская» сцена Достоевского, удар по самой сути сомнительного научного статуса этих концепций - их принципиальной нефальсифицируемости.
По сравнению с судебными сценами Толстого и Достоевского изображение научной несостоятельности криминальной антропологии в произведениях других русских писателей 1880-1890-х годов, например в мелодраматических уголовных историях А. И. Свирского12, отличается гораздо большей простотой. Так, в коротком «Рассказе ночного вора» (1900) об уголовном процессе по делу о воровстве сообщается от первого лица. Вот как рассказчик-вор обобщает характеристики, данные ему в речах прокурора и адвоката:
Прокурор вылепил из меня классический тип мрачного злодея, жестокого, бездушного и весьма опасного для общества. <…> Мой защитник говорил пышно и речь свою пересыпал календарными афоризмами, стихами Надсона и без конца цитировал Достоевского. Он старался доказать, что я дегенерат, полуидиот и что мне нужна не тюрьма, а лечебница для душевнобольных13.
Пытаясь высвободиться из этих двойных убийственных тисков концепции грубого атавизма, с одной стороны, и «олитературенной» теории вырождения - с другой, вор сначала подчеркивает их противоречивость, а затем рассказывает историю своей жизни. При этом вырисовывается образ не преступного дегенеративного типа, но индивидуальной личности:
Я встал.
- Прокурор, - начал я, - одна из свидетельниц и защитник дали обо мне три различных характеристики. Если им всем верить, то получится, что я в одно и то же время и злодей, и добрый человек, и полуидиот. Это, конечно, абсурд. И я прошу позволить мне, не ради оправдания моего, а исключительно ради одной лишь истины, сказать о себе несколько слов14.
1 Murav. Russia’s Legal Fictions; McReynolds. Murder Most Russian. P. 131-136.
2 Becker. Medicine, Law, and the State, особенно 221-266.
3 В «Дневнике писателя» за 1876 год Достоевский не раз обращается к делам Корниловой и Каировой, обвиняемых в убийстве. В первом случае он настаивает на временной невменяемости подсудимой по причине беременности; во втором же, напротив, опровергает аналогичные доводы защитника (Murav. Russia’s Legal Fictions. P. 125-155; Rosenshield. Western Law, Russian Justice. P. 68-104).
4 Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 15 («Братья Карамазовы»). Л. , 1976. С. 104.
5 Там же. С. 103-104.
6 Там же. С. 105.
7 Там же.
8 Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений: В 90 т. Т. 32 (Воскресение). М. , 1936. С. 72.
9 Там же. С. 73.
10 Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Т. 32. С. 74.
11 Там же. С. 74-75.
12 О жизни и творчестве Свирского см. : Кубиков И. А. И. Свирский // Свирский А. И. Полное собрание сочинений. Т. 1. М. ; Л. , 1928. С. 7-18.
13 Свирский А. И. Казенный дом. Тюрьма, надзиратели, арестанты. М. , 2002. С. 257.
14 Там же. С. 257-258.
Риккардо Николози. Вырождение: литература и психиатрия в русской культуре конца XIX века / авториз. пер. с нем. Н. Ставрогиной. - М. : Новое литературное обозрение, 2019.
.Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
Подробнее читайте на polit.ru